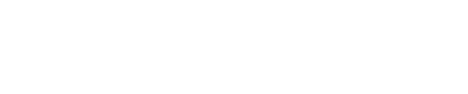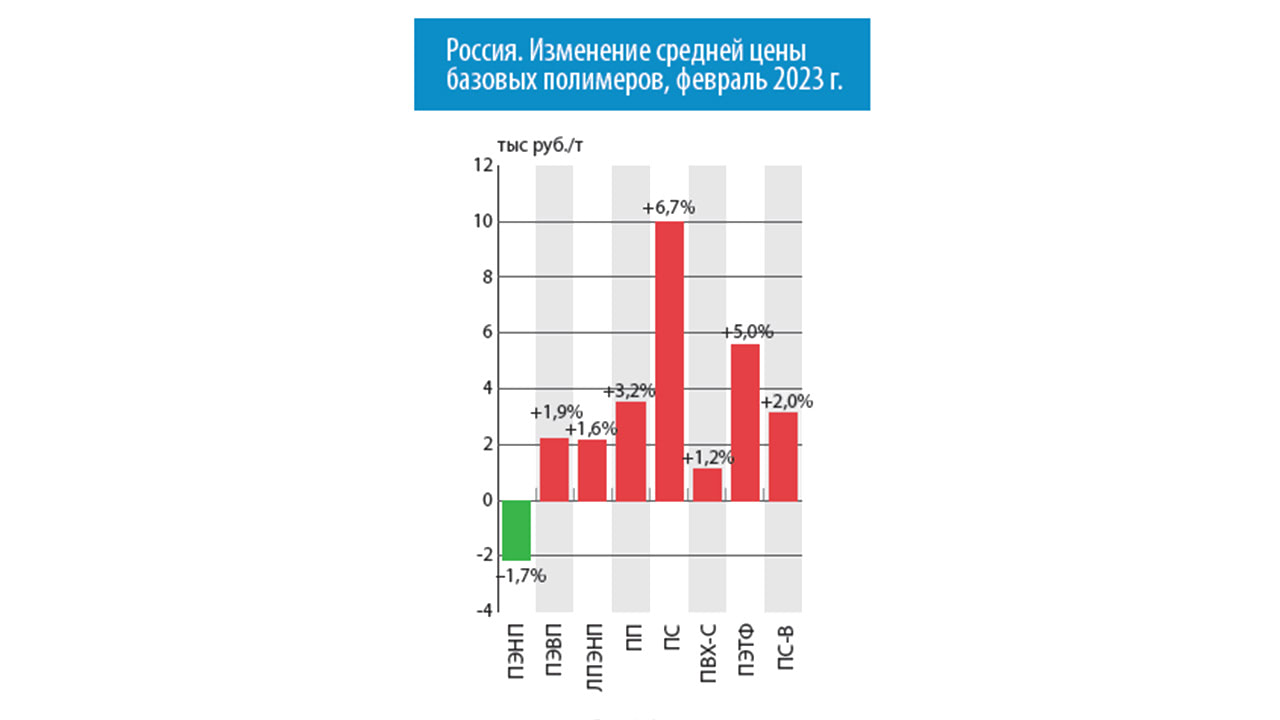Директор московского отделения ФАО рассказал о продовольственных рисках XXI века
Директор московского отделения ФАО Олег Кобяков о том, почему угроза голода нарастает в эпоху айфонов, саммите ООН по продовольственным системам и правилах питания на XXI век.
Пандемия коронавируса и подстёгнутый ею рост цен на продовольствие во всем мире стали предметом пристального рассмотрения ООН. Глобальный саммит по продовольственным системам в рамках заседания высокого уровня Генассамблеи ООН в нынешнем сентябре созывает лично её Генеральный секретарь Антониу Гутерриш, и уже это говорит о том, до какой степени эта проблема приобрела глобальный характер. По сути, под ударом оказались цели устойчивого развития (ЦУР), которых человечество планировало достичь к 2030 году, в том числе и самые принципиальные: ликвидация нищеты (ЦУР-1) и голода (ЦУР-2). Как предупредил генсек, «наши продовольственные системы работают с перебоями, и пандемия COVID-19 усугубляет ситуацию».
О том, почему конфликты, пандемии и другие бедствия порождают голод, от которого не защищены даже богатые страны, кто попал в новые группы риска и как этому противостоять, а также о том, как идёт диалог по продовольственной безопасности с нашей страной, изданию «Ветеринария и жизнь» рассказал Олег Кобяков — директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Российской Федерацией. Стоит напомнить: одним из главных инструментов отслеживания цен на продовольствие является Индекс продовольственных цен ФАО — средневзвешенный показатель изменения за месяц международных цен на корзину из пяти сырьевых товарных групп: зерновые, мясо, молочные продукты, растительные масла и сахар.
ФАО В МОСКВЕ
Каковы задачи московского отделения ФАО, которым вы руководите, Олег Юльевич? Как давно и с какими целями оно открыто в Москве?
Олег Кобяков: Офис открыт пять лет назад по соглашению между ФАО и Россией. Всего у ФАО есть представительства в 130 странах, но подобных связных офисов только 6. Они открыты в столицах ведущих стран — доноров ФАО (в Вашингтоне, Иокогаме (Большой Токио. — «ВиЖ»), Брюсселе), а также в ооновских столицах (Нью-Йорке и Женеве). С прошлого года такой офис работает и в Сеуле.
Что касается целей, то наш офис — своего рода интерфейс между ФАО и Россией. ФАО позиционирует себя как организация по обмену опытом и знаниями среди стран-членов, поэтому он функционирует как дорога с двусторонним движением. С одной стороны, мы способствуем тому, чтобы весь российский опыт — крупнейшей аграрной, лесной, рыбной, продовольственной державы с огромным научным потенциалом — распространялся по каналам ФАО (в организацию входят 194 страны. — «ВиЖ»). Тут важно добавить: в мандат организации входит не только «классическое» сельское хозяйство с его растениеводством, животноводством и другими подотраслями, но и лесная и рыбная сферы, развитие сельских районов, а также продовольственная и пищевая безопасность.
Не менее важно в нашей работе и встречное направление — передача российским организациям, учёным, фермерам методики, информации, рекомендаций, которые накоплены и разработаны ФАО. Все наши страны-члены вне зависимости от уровня развития могут использовать передовой опыт других стран.
Наконец, важная задача отделения — стимулировать финансирование Россией программ техсодействия ФАО, которые осуществляются в 130 странах мира. Российская Федерация считается новым, растущим донором содействия международному развитию, и за последние пять лет она профинансировала ряд весомых проектов по линии ФАО на сумму почти 35 млн долларов. В их числе — проекты по школьному питанию в Армении, Киргизии и Таджикистане, помощь по восстановлению агросектора в Сирии, борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам, содействие восстановлению почв, а также крупнейший на сегодня в истории российского донорства в ФАО взнос в 10 млн долларов в 2020 году на борьбу с саранчой в Восточной Африке.
С кем в Москве за эти пять лет удалось наладить значимое сотрудничество? Можете ли вы выделить ведомства, которые наиболее склонны к взаимодействию по тем направлениям, которые вы перечислили?
Олег Кобяков: В силу широты своего мандата ФАО работает с большим кругом партнёров. Это и госучреждения, к числу которых прежде всего нужно отнести Министерство сельского хозяйства РФ, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Федеральное агентство лесного хозяйства, Федеральное агентство по рыболовству. Активно взаимодействуем с министерствами экономического блока: Минфином, Минэкономразвития, а также МИД России. Мы поддерживаем тесные связи с академическими научными учреждениями и вузами, а также с российским частным сектором.
Какой характер носит сотрудничество с вузами?
Олег Кобяков: Оно многоплановое и включает совместные исследования и разработки, которые вузы могут проводить по заказу ФАО, в частности в МГУ, Тимирязевской академии, Высшей школе экономики, Московском государственном университете пищевых производств, РУДН, РАНХиГС, МГИМО и др. Многие наши мероприятия (семинары, конференции) мы проводим на площадках вузов-партнёров. В отделении проходят преддипломную практику и стажировки студенты и аспиранты; с профессорско-преподавательским составом мы ведём совместные программы технического содействия развивающимся странам, причём не только тем, что находятся в нашем регионе, но и более удалённым, например в Латинской Америке, Азии, Африке. При этом мы не ограничиваемся московскими вузами. У нас хорошее партнёрство с Башкирским госуниверситетом, Казанским аграрным университетом, рядом вузов в других российских регионах, и география этих связей постоянно расширяется.
КОВИД И ГОЛОД
Каковы сегодня прогнозы ФАО относительно продовольственной безопасности?
Олег Кобяков: Ваш вопрос прямо в точку, так как наша основная задача — борьба с голодом. ФАО была создана 75 лет назад именно с целью ликвидации голода в мире, а также обеспечения продовольственной безопасности всех стран, народов, каждого человека, обеспечения устойчивого сельскохозяйственного производства и безопасности пищевой продукции. За эти 75 лет удалось достичь ощутимых успехов. Так, если в 1945-м, году основания ФАО, население планеты не достигало и 3 млрд человек, то сейчас оно вплотную подошло к рубежу в 8 млрд, а количество голодающих за это время сократилось с одного миллиарда до 690 млн человек в 2019-м, последнем предковидном году. К сожалению, пандемия COVID-19 отбросила нас назад: к этим 690 млн голодающих добавилось еще свыше 130 млн. Сегодня эта цифра превышает 820 млн человек. Конечно, это ужасно: умирать от голода в XXI веке, в век айфонов и цифровых технологий!
Помимо хронически голодающих ещё примерно миллиард человек не может обеспечить себе полноценное питание, а ещё миллиард — здоровое питание. Итого 3 из 8 млрд живущих на планете не могут питаться так, как хотели бы. В этом смысле России тоже есть, конечно, над чем работать. Нужно нагонять тренды изменения структуры питания в сторону тех рационов, которые рекомендуют врачи, обеспечивать социальное питание незащищённым слоям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации…
Есть риск, что эти цифры ещё возрастут из-за глобального экономического кризиса, толчок которому дал коронавирус?
Олег Кобяков: Кризисы бывали и раньше. Тут важно понять, что основная причина голода сегодня не нехватка продовольственной продукции, её в мире производится более чем достаточно, чтобы накормить все население планеты. Проблема в том, что продовольствие распределяется неравномерно. К тому же нашу планету постоянно лихорадят вооружённые конфликты, стихийные бедствия и затяжные системные кризисы, а это первопричины и извечные спутники голода. В этом году порядка 45 государств будут нуждаться во внешней продовольственной помощи — считайте, каждая пятая страна мира. К сожалению, надо признать: голод постепенно нарастает, пандемия COVID-19 заставила человечество обратить внимание на эту проблему. Надеюсь, это обернётся решимостью принять действенные меры и обратить негативное развитие вспять. В этом наш шанс. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в рамках которой сформулированы 17 целей (здоровье, качественное образование, искоренение нищеты, голода и т. д. — «ВиЖ»), принята всеми членами ООН. И она не должна остаться на бумаге.
Скажите, есть ли статистика по голодающим в России?
Олег Кобяков: Начать нужно с того, что наша страна одержала историческую победу над голодом. Это событие эпохальное, потому что даже на протяжении прошлого века, не говоря уже о более давних временах, голод не раз свирепствовал в России. Голод начала 1920-х в Поволжье; голод, вызванный насильственной коллективизацией 1930-х; послевоенные неурожаи 1946–1947 годов; острая нехватка продовольствия в конце 1980-х на фоне экономического кризиса в перестройку — все это были очень тяжёлые испытания для граждан страны.
В прошлом году в российском национальном обзоре о ходе достижения Россией ЦУР отмечалось, что процентная доля людей в стране, хронически испытывающих голод, составляет 1,6%. По сути, это уровень статистической погрешности (ФАО считает таковой планку в 2,5%), поэтому можно с полным основанием говорить об искоренении голода в России. Другое дело, что, как и в любой стране, пусть даже развитой, у нас есть группы населения, и достаточно большие, не получающие полноценного питания. Речь вот о чем. Чтобы сбить голод и продолжать жизнедеятельность, достаточно калорийной пищи с низкой биологической ценностью — того, что называют «пустые калории». А полноценное питание включает помимо качественных белков, жиров и углеводов ещё микроэлементы и витамины. И, наконец, вершиной этой пирамиды считается здоровое питание — оптимальный и безопасный пищевой рацион, в который входят фрукты и овощи, зелень и бобовые, рыба и полезные виды мяса.
НОВЫЕ ГРУППЫ РИСКА
Каковы сейчас группы риска в мире? Один выдающийся российский учёный-ветеринар недавно заметил: когда вы говорите о голоде, то должны понимать, что на каждого голодающего в мире приходится четверо ожиревших… Понятно, что такая статистика не отменяет проблем ни той, ни другой категории, но очевидно, что проблема неполноценного питания, которую вы затронули, становится все более зримой. Речь не только об ожирении. Мода на сыроедение, веганство, вегетарианство все более агрессивна. Проводит ли ФАО разъяснительную политику в этой области, объясняя, почему необходимо обеспечивать свой организм белками и омега-кислотами? Проводились ли исследования о том, как эти новые тренды сказываются на здоровье?
Олег Кобяков: ФАО активно занимается проблематикой питания, у нас большое подразделение по этим вопросам. В 2015 году на Второй международной конференции по вопросам питания, в работе которой активно участвовала Россия, в том числе и финансово, был взят курс на искоренение всех форм неполноценного питания в мире. Разработаны — здесь наша работа строится на тесном взаимодействии со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) — и методические рекомендации для производителей, потребителей и предприятий общественного питания.
Более полувека действует совместная комиссия ВОЗ и ФАО по пищевым стандартам под названием «Кодекс Алиментариус» (Codex Alimentarius Commission с 1963 года занимается разработкой единых международных стандартов на пищевые продукты, а также норм и правил, которые призваны защитить здоровье потребителя и обеспечить правила торговли в продовольственной сфере. — «ВиЖ»). Это орган, стандарты которого вырабатываются на международном уровне на основе научных рекомендаций и практики. Они принимаются зачастую в интенсивных дебатах, но, будучи принятыми, становятся обязательными. Замечу, впрочем, что в России многие пищевые стандарты даже жёстче, чем рекомендации кодекса.
Конечно же, ФАО совместно с ВОЗ и Детским фондом ООН отслеживает все современные тенденции питания. Мы говорим о «тройном бремени» неполноценного питания, от которого надо избавить человечество. С одной стороны, это голод, несущий смертельную опасность для человека, и разные градации недоедания, ведущие к обострению хронических заболеваний, а у детей — к необратимому отставанию в росте. С другой — дефициты питательных микроэлементов и витаминов. А с третьей — как раз избыточный вес и ожирение, бич развитых стран, провоцирующие диабет, сердечно-сосудистые и онкологические болезни. Неполноценное питание наносит непоправимый ущерб репродуктивному здоровью женщин и развитию девочек, закладывая мину замедленного действия под здоровье будущих поколений.
Насколько важен в этом отношении всемирный Саммит по продовольственным системам?
Олег Кобяков: Первый такой саммит состоялся в 1996 году по инициативе ФАО. Вообще, Саммит по продовольственным системам проводится раз в пять лет, на этот раз ФАО сознательно отдала верховенство в его проведении «большой» ООН, саммит созывает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он состоится в Нью-Йорке в рамках заседания высокого уровня Генассамблеи в конце сентября. Но важен не столько сам саммит (он пройдёт в течение одного дня, будут приняты декларация и призыв), сколько многомесячный подготовительный процесс к нему, который интенсивно шёл на национальном уровне во многих странах. Россия внесла в него большой вклад: российский постпред при ФАО В. Л. Васильев вошёл в Консультативный совет саммита от стран Европы, а ректор Дипломатической академии МИД России А. В. Яковенко — в группу лидеров саммита. Сам финальный раунд национального диалога, в котором активно участвовали наши министерства и ведомства, Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» и представители бизнеса, прошёл на площадке Московского государственного университета пищевых производств. К саммиту был также приурочен подготовленный Роспотребнадзором национальный доклад о состоянии питания.
С учётом широкого отклика на идеи саммита во всех странах мира, далеко превысившего ожидания организаторов, ФАО 26–29 июля с. г. провела в своей штаб-квартире в Риме пре-саммит, который сразу назвали народным. В отличие от предстоящей глобальной встречи в Нью-Йорке, участники пре-саммита не были ограничены во времени и в течение трёх дней обменивались опытом, выводами и рекомендациями на многочисленных секциях и круглых столах. Россию на нем представлял замминистра иностранных дел С. В. Вершинин, проведший также встречу с Генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем.
И О РОССИИ
Несколько конкретных сюжетов. В России серьёзно стоит проблема с фальсифицированными продуктами при госзакупках — когда выигрывают те, кто предлагает цену порой ниже рыночной, что достигается нередко путём использования фальсификата. Существуют ли какие-либо рекомендации ФАО на этот счёт? Как решаются подобные вопросы в мировой практике?
Олег Кобяков: Проблема фальсификатов — это подрыв правовых норм, как национальных, так и международных, защищённых системой географических наименований. Использование контрафакта — это во многих случаях ещё и нарушение патентного права. В большинстве правовых систем мира это уголовно наказуемые деяния. Но ФАО беспокоит скорее другой ракурс — безопасность такой пищевой продукции. Практика показывает, что фальсифицированное продовольствие далеко не всегда безвредно, ибо часто изготавливается с нарушением санитарно-гигиенических мер, его потребительские, органолептические и бактериологические параметры не соответствуют заявленным в маркировке. Употребление его в пищу несёт серьёзные риски для здоровья. Помимо этого, производство и реализация, а также осознанная покупка контрафактной продукции нарушают и национальное законодательство, и международные нормы, однако искоренением этой проблемы призваны заниматься прежде всего правоохранительные органы.
Проблема антибиотикорезистентности сегодня очень остро стоит в агросекторе. С ней сталкивается не только Россия, но и многие страны мира. Каковы рекомендации ФАО по предотвращению надвигающегося кризиса в этой области?
Олег Кобяков: Проблема устойчивости к противомикробным препаратам — одно из основных направлений совместной работы трех межправительственных организаций — ВОЗ, МЭБ (Всемирной организации здравоохранения животных. — «ВиЖ») и ФАО в рамках концепции «Единое здоровье». И известна эта проблема не только специалистам агроиндустрии. Многие из нас могут привести печальные примеры из семейной истории, когда после блестяще проведённых хирургических операций наши близкие, к сожалению, не выживали в результате больничных инфекций из-за того, что антибиотики не могли справиться с резистентными патогенными микроорганизмами. При этом надо отметить: антибиотик — величайшее изобретение человечества, которое спасло десятки миллионов жизней и спасёт ещё. Но, как любое орудие, оно может не только затупиться, но и нанести огромный ущерб.
В замкнутом цикле «природа, человек, животное» цепочки распространения антибиотикорезистентности через пищевые продукты прослеживаются весьма чётко. Одна из причин кроется в избыточном применении антибиотиков в сельском хозяйстве, прежде всего в животноводстве и аквакультуре, однако эта практика распространяется и на растениеводство. Антибиотики в качестве стимуляторов роста добавляют в корма практически во всех странах. В целях сдерживания этой порочной практики в рамках Комиссии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам «Кодекс Алиментариус» приняты жёсткие нормативы предельно допустимых уровней остаточного содержания антибиотиков в пищевой продукции. ФАО также проводит научную и масштабную просветительскую работу, издаёт методические рекомендации, призывая крупный бизнес и фермеров полностью отказаться от применения антибиотиков в профилактических целях в животноводстве. Подчёркиваю: ФАО и МЭБ допускают использование антибиотиков в агросекторе только в терапевтических целях.
Каковы рекомендации ФАО по идентификации животных? Для России эта проблема давно актуальна, но соответствующего законодательства пока нет. Эффективна ли эта мера с точки зрения ФАО?
Олег Кобяков: Исходя из необходимости прослеживаемости продукции на протяжении всей продовольственной цепочки, ФАО поддерживает чипирование всех сельскохозяйственных животных. Чипирование, которое содержит самую многообразную информацию о предшественниках, селекции, породе, прививках, перенесённых заболеваниях, необходимо как для генетической работы, так и для обеспечения биобезопасности.
Источник: vetandlife.ru